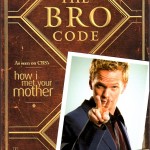Ленин, Че и Микки-Маус
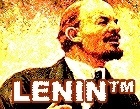
Предисловие Евгения Закаблуковского
В Сообществе принято делиться размышлениями о прочитанных книгах, писать рецензии, обсуждать книги в форумах, и даже публиковать отдельные главы из еще не написанных книг.
Но сегодня предлагаю уважаемым членам профессионального сообщества E-xecutive обсудить отрывки рукописи, которую сам автор позиционирует как «пособие по безбашенному мышлению для сотрудников отдела маркетинга и PR». Книга написана одним из участников конкурса «Творческих бизнес-проектов» Владом Шевцовым по идее «Lenin’s estimate» призера конкурса Игоря Завилинского.
Я возьму на себя смелость рекомендовать «Последнюю гастроль» к прочтению – Владу удалось вложить в фарсовый сюжет и юмористическую оболочку анализ процессов, с которыми каждый день сталкивается специалист по связям с общественностью:
- Стратегическое целеполагание.Генерация идей.
- И еще раз генерация идей.
- Анализ коммуникационных процессов.
- Отношения с руководством и коллегами т.д.
Кроме этого, в рукописи можно найти размышления о философии бизнеса, о глубинной мотивации бизнесменов, о взаимосвязи работы и любимого дела – с этими рассуждениями можно соглашаться, можно спорить, но они, несомненно, заслуживают внимания.
Что еще можно найти в книге, о чем можно с удовольствием подумать за чашечкой кофе?
- Парадоксальные концепции «Советского брендинга» и «Антисоветского маркетинга».
- Концепция «Собственность в себе», отсылающая читателя к трудам Иммануила Канта.
- Единица измерения – 1 Lenin – для оценки ущерба, нанесенного правительством экономике страны.
- Идея о нобелевской премии по брендингу.
- Концепция «Brandme!».
- И, конечно, рассуждения о смерти брендов от маразма.
Часть рукописи была опубликована в январском номере журнала «Советник». Прежде чем вы решите, достойна ли «Последняя гастроль» вашего внимания, я предлагаю взглянуть на мнения рецензентов, видевших весь текст. Орфография и пунктуация авторов рецензий сохранена.
«Здравствуйте, Влад, не думаю, что мой комментарий «украсит» Ваше предисловие:
1. В тексте содержится несколько вполне приличных мыслей,
2. У Томаса нет «Lamborghini»
3. Фраза «А если бренды были, то был и маркетинг» ошибочна, по сути, эти понятия не связаны.
4. На мой взгляд, Вы зря пишете в этом жанре — ниша уже занята, сами знаете кем. Сделайте публицистику — будут читать. Хотя, печать, наверное, не будут:)
5. Боюсь, я – нерепрезантативен».
Regards, Jury Voskresensky Editor-in-Chief «U-Journal», Stockholm School of Economics in Russia
«Впечатления по поводу прочитанного: это ЗАЯВКА, из которой может что-то получиться. А далее лучше консультироваться с теми, кто будет делать (продолжать) это «получиться»: издательством, киностудией, СМИ.»
Лучшие пожелания, Александр Чумиков.
«Давайте я совсем честно. Рецензий ждать от меня не стоит, потому что рецензентов я ненавижу, и на всякое предложение поделиться своим мнением привычно отвечаю, что это чужое мнение сломало столько историй, что на него всегда нужно плевать».
Норвежский Лесной. Блоггер еженедельника «Большой город».
«Влад, мне категорически запрещено выступать как в журнале, так и на Портале. А рецензия уже давно готова. Вот она: «Эта штука посильнее «Фауста» Гете будет!». Все руки не доходили (или ноги не брали) Вам отправить».
Владимир Ганин. Sovetnik.ru
«Влад, нет, худа без добра, потому что, открыв почту утром и понимая, что удалось поспать всего три часа, а день набит важными встречами, я просто не стала смотреть «Последнюю гастроль». Сейчас посмотрела. Очень милая вещь, спасибо, что прислали».
Юлия Латынина. Журналист.
«…Если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? …Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Не читать призван, но писать…».
Виктор Пелевин. Автор Generation «П»
«Влад, добрый день! Я прочитал. Интересно. Но это литература, а не маркетинг или брэндинг. Я не могу дать отзыв как специалист по маркетингу, так как в этом случае я должен оценивать не произведение, а, например, способ его продвижения.
Как читатель могу сказать, что было интересно».
С уважением, Валентин Перция. BrandAid
«Напомнило: рассказ Игоря (Иртеньева), как ребята пьют у мавзолея водку с Хрущевым.
Не уверен, что у меня совпадают вкусы с Пелевиным и Латыниной, но если успею, прочитаю. Рискуйте, господа!»
Виктор Шендерович.
«Сумасшедшее исполнение бредовой идеи в условиях нашей маразматической жизни не кажется нереальной. Дистанция до реализации наверняка будет значительно короче, чем у жюльверновского наутилуса. А вопросы морали: оставьте, господа, оставьте…
Кто более морален: те, кто не похоронили или те, кто устроят «последнюю гастроль»?
В этих условиях наименьшим грехом будет смех.
Так что расслабьтесь и смейтесь!
Ведь действительно смешно…»
Игорь Завилинский. Президент компании «Conference House».
В процессе нашего с Владом общения сложилось так, что я стал одним из представителей целевой аудитории, но сейчас беру на себя смелость представить нового автора собственно целевой аудитории. Итак, наслаждайтесь.
Отрывки из рукописи публикуются с согласия автора и правообладателя[i].
Влад Шевцов
После выхода модного пособия по безбашенному мышлению «Последняя гастроль» «Generation “П”» Виктора Пелевина можно считать матерным учебником по философии.
Пролог
Господин Смакаревич едва не выпустил изо рта мундштук акваланга. Красное море, Аменхотепом забытый островок, глубина такая, что девятиэтажку со всеми антеннами скроет, и на тебе – Ленин. Саркофаг с телом лежал на большом выступе прибрежной скалы. Подводные течения обеспечивали чистоту лучше, чем «Доместос». Отраженный от волн свет играл на гранях бронестекла, как Бог с вечностью. Воспоминания молодости подкараулили седины с аквалангом в самый неподходящий момент – накануне пятидесятого дня рождения. Господин Смакаревич жил отшельником на островах без Интернета и телевидения, и не знал о самом громком бизнес-проекте века.
Часть первая. Проект «Последняя гастроль»
Глава 2
…Ночь. Офис «Группы Больших Денег».
Большой стол в виде буквы «Т» освещался лишь настольной лампой. В полумраке сидел господин Бабловский, напротив него — неосвещенный мужской силуэт в бейсболке. Их разделяли силуэты пузатой бутылки и двух стопок.
Нервозность господина Бабловского выдавало только медленное постукивание пальцами по столу. На самом деле он был внутренне собран, как перед серьезными переговорами. На столе пред ним лежал листок бумаги, на котором было написано: «Lenin’s estimate, или проект «Последняя гастроль»». Ниже – текст на английском языке.
Тарантино, небритый после перелета, подтянул к себе листочки и налил чуть-чуть коньяка.
— Основная цель проекта – организация передвижной экспозиции на основе Мавзолея Ленина, – прочитал на английском Тарантино. – Сроки реализации до начала деятельности экспозиции – 14 месяцев. Основные участники: продюсер проекта – господин Бабловский, режиссер проекта – господин Тарантино. Первый этап проекта – идеологический. Используя сильное политическое лобби господина Бабловского, через депутатов разных фракций и групп, а также при помощи медиаподдержки, формируется общественное и политическое мнение о необходимости выноса тела В.И.Ленина из центра Москвы. С другой стороны, проводится активная работа среди молодого поколения коммунистической партии и других партий левого толка, с целью продвижения идеи мощного идеологического толчка коммунистической идеологии в развитых западных странах. Ключевым мероприятием этого проекта должны стать кругосветный агитационный тур. Одним из элементов тура…, – прочитав следующую строку, Тарантино несколько удивился.
— Ты это серьезно? – переспросил он у господина Бабловского.
— Нет, я тебя сюда притащил исключительно коньяку попить по 50 штук баксов за бутылку, – съехидничал господин Бабловский.
— Условия моего участия?
— 20 миллионов – в карман. 50 миллионов – на фильм.
— На какой?
— О Че Геваре. Называется «Капиталианус».
— ???? – коньяк обжег Квентину горло, и в ушах у него зашумело сильнее, чем в турбинах самолета.
— Фильм о том, что капитализм – в жопе.
— А Че Гевара?
— А Че Гевара – нет. Он руководит сопротивлением.
— Откуда? – более глупого вопроса Квентин не задавал за всю свою жизнь.
— Тебе видней.
Глава 5
— Пустой гроб Ленина – самый точный символ коммунистической идеи, когда идеология есть, а собственно идеи – нет, – вслух размышлял господин Бабловский. – И еще, как в России может быть построен капитализм, если его основа – собственность, а собственности в СССР не было? Все заводы принадлежали государству, но в то же время государство само состояло из предприятий, народа и бюрократии. У Канта это, наверное, называлось бы «собственность в себе», – господин Бабловский глотнул кофе и поморщился, то ли от вкуса, то ли оттого, что вспомнил приватизацию.
Перед глазами вставали сюрреалистические картинки: толпа с транспарантами, с которых стекают буквы лозунгов, чиновники с портфелями, из которых торчат паяльники…
— Даже когда чиновники раздали собственность в руки подсуетившихся кооператоров и «красных директоров» заводов-гигантов… Что получилось? Государства не стало – потому что если раздать кирпичи, от дома останутся только обломки. В итоге – капитализм есть, а государства нету. А теперь чиновники удивляются, почему это никто не платит налоги? Английские просветители, например, в своей теории общественного договора, утверждали, что налоги – оплата государству за защиту снаружи и за порядок внутри. Если защиты нет, порядка – тоже, за что же деньги собирают? Это уже называется ушедшим в далекие 90-е словом «рэкет». Сегодня единственно верным мерилом твоей бизнес-успешности является не место в списке «Форбс», а размер претензий налоговой, – подытожил свое размышление вслух господин Бабловский.
Эти мысли навлекли на него очень малоприятные воспоминания.
Где-то год назад правительство начало операцию «Цветик-семицветик». Показательно оторвав лепесток «Ходорковский», правительство заставило остальных олигархов исполнять желания. Тогда же в офис «Группы Больших Денег» и заявились приставы. Приставы потребовали семьдесят девять миллионов. На каверзный вопрос: «А почему не сто?» ответили, что сейчас идут сезонные скидки. Я еще тогда спросил: «Какой сейчас сезон»? Приставы улыбнулись: «Не сезонные, а СИЗОнные. Еще объяснения нужны?». Ничего, я не гордый – семьдесят девять, так семьдесят девять. Заплатил. Прощаться не стал. Говорить судебным приставам «до свидания» – дурная примета: а вдруг сбудется…
Глава 8
Стюардесса принесла кофе господину Бабловскому. Пока в США экспозиция саркофага с телом Ленина собирала кассу, господин Бабловский летел к последней точке гастрольного тура. Попивая кофе и читая свежую прессу с ноутбука, он вспоминал последние события. Перед глазами вставали кадры «CNN».
Как всегда, митинговали в Штатах все, кому не западло. Феминистки утверждали, что Ленин был подставным лицом, а революцию в России делала Крупская и ее подруга Фанни Каплан. А покушение на Ленина – всего лишь ссора между подругами. Нью-йоркские растаманы утверждали, что Ленин был негром – этим и объяснялась его любовь к люмпен-пролетариату – то есть чернорабочим.
Старт Американской части тура «Последняя гастроль» сопровождался не только демонстрацией шоу, но и резким повышением спроса на товары с советско-коммунистической символикой. Американский «Диснейленд» запустил сверх-успешный аттракцион «Паровоз истории». От обычных американских горок аттракцион отличается тем, что вагонетки движутся не сцеплено, а по отдельности, причем каждый вагончик – по своей траектории. К финишу вагончики доезжали не все.
Анимационная студия «Pixar», известная блокбастером «Ледниковый период», выпустила на экраны мультверсию фильма «Приключения неуловимых мстителей в неолите». Роль Бубы Касторского исполнил известный комедийный актер Шрек.
В это же время состоялась мировая премьера фильма «Ночной дозор». По мнению телегида «Телегад», смешнее всего рэп к финальным титрам звучал на китайском языке.
Следующая мировая премьера, анонсированная «Первым каналом», уже давно была ожидаема зрителями. Это был фильм о кубинском революционере Че Гевара. Фильм, как уже говорилось, в основном о том, что капитализм – в заднице. Но, судя по исполнителям главных ролей, у фильма были серьезные претензии и в капстранах собрать кассу. На роль несгибаемого революционера Квентин Тарантино пригласил Джонни Деппа. Ленина сыграл лысый Брюс Уиллис, а Крупскую – Вупи Голдберг. Роль Фани Каплан Квентин по блату оставил для Умы Турман. Даже юные фанатки «Титаника» смогли увидеть своего смазливого кумира в эпизодической роли матроса Железняка.
Глава 10
В это же время. Томас Гэд вышел из офиса «группы КПРФ», и направился к своей «Lamborghini», стоявшей на корпоративной стоянке. Он довольно оглядел изменившуюся площадку – один из плодов своих усилий по ребрендингу. Троллейбусы и трамваи, на которых ездило руководство КПРФ до отмены льгот, уступили место двум десяткам «Ferrari Superamerica». На капоте каждого автомобиля был крупно изображены перекрещивающиеся серп и молот. Томас Гэд подошел ближе и провел рукой по красному капоту. Тут его взгляд упал на логотип автомобиля. Господин Гэд не поверил своим глазам: на желтом фоне прославленный черный конь оказался не только встающим на дыбы, но и… запряженным в плуг.
— Вот, блин, – поморщился он, – только выпустишь брендинг из-под своего контроля, так тут же начинается рабоче-крестьянская самодеятельность, – отвернувшись, он подошел к своей машине.
— What the fuck? – удивился господин Гэд на всю стоянку. Бык на логотипе его «Lamborghini» тоже изменился – у него появилось вымя, и уменьшились рога.
— Доярки еще не хватало, – ошалело пробормотал он, уезжая со стоянки. – Коммунизация брендов прямо какая-то началась…
Из-за волнений Томас Гэд проголодался. В столовой КПРФ шел капитальный ремонт, поэтому он поехал в «Макдональдс». Он остановился у въезда на парковку. Вышел из машины, взялся за передний бампер, и, матерясь, перетащил автомобиль через «лежачего полицейского». Московские бордюры и «лежачие полицейские» оставляли глубокие следы на днище автомобиля – производители «Lamborghini» гордились практически отрицательным клиренсом.
В очереди Томаса Гэда толкали, на кассе – обхамили. Картофель-фри оказался не разморожен, «Кока-кола» – теплой и разбавленной. Сдачу с двадцати долларов Томасу Гэду насыпали пионерскими значками.
— Советские недели в «Макдональдс» – еще больше хлеба в котлетах! – прочитал он транспарант во всю стену. – Толково! – Томас Гэд уважал чужое умение поймать волну. Пока он поглощал гамбургеры «МакЛенин» и «МакЧе», к нему два раза подходила провинциальная девушка, предлагая заняться марксизмом. Томас Гэд не обращал на девушку внимания – статья на экране его ноутбука пахла заказом.
Сайт газеты «The FINANCIAL TIMES».
Лента новостей «Financial news».
«…Нобелевским комитетом по экономике предложено ввести новую единицу измерения – 1 Lenin – для оценки ущерба, нанесенного правительством экономике страны. В качестве эталона новой единицы измерения принята Россия – для нее численное значение Lenin составляет единицу. Для остальных стран Lenin измеряется в тысячных долях. Сейчас в руководстве Нобелевского комитета развернулись дебаты, как оценивать эмоциональную составляющую разрушительных действий…».
Дальше Томас Гэд читал с особым интересом – никто, кроме него, не мог рассказать, какую долю бренд-кода составляет его эмоциональная часть.
— Жаль, не дают нобелевскую премию по брендингу, – пробормотал Томас Гэд, набирая номер нобелевского комитета.
Часть вторая. Дневник PR-директора проекта.
6 сентября
Работаю. Обложился литературой. Мозг похож на губку, которую хорошенькая уборщица макает в ведро с мыльной водой. Жмяк – мозг жадно впитывает знания. Жмяк-жмяк – выжимают из него идеи.
Идея – это трещина на темных очках, через которые ты видишь мир. Чем сильнее идея – тем сильнее искажается мир в твоих очках. А бывает так, что очки разлетаются, и ты уже смотришь на мир по-другому. Без очков мир непривычен. Твое восприятие стало острее, а мир – ярче. Некоторые вещи слепят. Да, иногда это больно. Ты начинаешь замечать то, на что не обращал внимания раньше. То, что ты не мог увидеть, даже если очень захотел – тебе мешали затемненные стекла привычных очков. А теперь нет. Они тебе не мешают. Но без них боязно. Очень боязно смотреть на этот яркий мир.
А еще страшнее видеть, как трещина проползает по очкам собеседника. Ты знаешь наверняка это чувство. Оно называется «через секунду я проиграю». Вроде еще этого никто не видит. Ты вообще можешь быть первым. Даже самым первым. Все видят, что ты первый. Но… но ты-то знаешь. Ты знаешь, что через секунду тебя обгонят, и первый приз получишь не ты. И тут уж ничего не поделать. Вот это-то и обидно: «ты еще первый, но ты уже проиграл». Да. Через секунду твой собеседник будет видеть больше чем ты. Намного больше. И его уже не догнать.
Легко проигрывать, когда ты неудачник. Неудачники – чемпионы проигрыша. Тяжелее всего проигрывать, когда ты чемпион выигрыша. А еще тяжелее – когда тебя обходит кто-то более слабый в твоем коронном виде соревнований. Раз и все. Конечно, «кумир поверженный — все бог», но в современном медийном мире эта фраза остается верной не более двух недель.
Придумывать гениальные идеи – это спорт. Как стрельба или тяжелая атлетика. Нет… не или… как стрельба и тяжелая атлетика. Сначала ты должен «выстрелить» идеей. Не просто выстрелить, а попасть в самый центр мишени. Но этого мало. Идея должна работать – и после попадания в мишень ты тащишься на помост и начинаешь поднимать «штангу». Чтобы идея работала, нужны усилия. Такие усилия, что начинают трескаться стекла на очках. Сначала у того, кто воплощает идею, а потом и у тех, кто увидел ее воплощение. Вот так меняется картина мира.
Бабловский потом показывал мне запись в ежедневнике: «Понедельник. Девять ноль-ноль. Планерка. Изменить картину мира».
В 9.43 очки разлетелись на мелкие осколки у всех. Вообще-то, гениальные идеи это моя работа. Но идея Бабловского – великая. Великие идеи заставляют мыслить, и биться над своим воплощением. Отличить великие идеи легко. Очень легко. Для их воплощения нужны гениальные идеи. Бабловский так и сказал: «Мы занимаемся тем, что анриал, а не тем, что импоссибл».
7 сентября.
Идейные искания продолжаются. Уже 34 часа не выхожу из кабинета. Такое ощущение, что если выйду – потеряю нить размышлений, а с ней от меня исчезнет вся суть разрабатываемой идеи. Последние два с половиной часа у меня кризис жанра. Отвлекаюсь от основной темы. Больше всего меня занимает вопрос о мотивации Бабловского в этом проекте.
Как Бабловский подходит к выбору бизнеса? Точный расчет? Но калькуляторы есть у всех. Дело ведь не в калькуляторах и не в цифрах. А в том, кто считает эти цифры. А главное – зачем и как.
В моем восьмом классе «А» было модно устраиваться на подработку – кто покрепче – таскал мешки, кто послабее – полол сорняки. Заработать за месяц 30-40 рублей считалось очень круто. Это как сейчас зарплата для выпускника в 2 штуки баксов.
Я летом не работал – я читал свои любимые книжки. Я же филолог. Мои одноклассники смеялись, что я ничего тяжелее страницы поднять не смогу. Даже сорняки полоть не приглашали. Говорили: «надорвешься». В конце лета я поехал на областную олимпиаду. И выиграл ее. Под суровыми взглядами дядь, теть и какого-то странного «районо». Я лучше всех любил книжки. И мне дали медаль. А еще через месяц мне дали премию – 183 рубля. И класс завидовал мне. Они так не могли. Они умели хорошо полоть мешки и таскать сорняки.
Хорошо зарабатывать и не работать. Это не фантастика. Так бывает. Правда. Но редко. Но… правда. Потому. Потому, что любимое дело не может быть работой.
Работа – это от слова «раб». Раб. Поработить. Работодатель. Рабовладелец. Слышите? Мы не отличаемся от древнего Рима. Ну… хорошо. Хорошо-хорошо! Отличаемся – в древнем Риме не знали долларов. Сейчас работодатель не только кормит, но еще и платит. Но попробуй, сбеги. Деньги держат лучше стальных цепей. Они держат и не дают заниматься любимым делом. Любимое дело никогда не приносит денег – это же не работа.
Любимое дело – это непрерывное воплощение мечты. Только самым лучшим мечтателям платят деньги, чтобы они не переставали заниматься своим любимым делом.
Любимое дело может быть профессиональное – это как диагноз. Бывает, смотришь на себя в зеркало, и все понимаешь. Ты пиарщик – и прет тебя от реализованных пиар-проектов. Тебе будут платить деньги за то, чтобы ты продолжал переться от сделанной работы. А если остальных не задевает – значит, ты клинически не попадаешь в яблочко или тупо надрываешься со штангой. Бросай все к черту – это не твое.
Бабловский точно придумал это не ради денег. Все равно после определенной суммы работать бессмысленно. Ну не съешь ты столько икры! 10 миллионов долларов уже достаточно. На хлеб хватит – будет что под икорку подсунуть.
Если хочешь заработать – ты станешь миллионером. И только – не более того! Миллиардером ты станешь только при одном условии. Условие состоит из 5 букв:
К у р а ж
Кураж – это воплощение своей мечты.
Кураж – это воплощение великих идей. Идей от которых трескаются стекла очков.
Кураж – это воплощение нереального.
Ресурсы ограничены. Всегда. Даже у миллиардера. У них, кстати, особенно ограничены. Не хватает самого главного – времени. А задачу нужно решать. Великая идея не ждет.
Вот здесь и появляется формула куража. Ты знаешь ее с детства.
— Е равно эм цэ квадрат.
— Эйнштейн, выйди из класса.
Формула куража – это самая обычная дробь. Делимое. Делитель. Частное.
Делимое – это цель. То, что нужно воплотить. Создать реализовать. «Развернуть реки» – это делимое. «Человека в космос» – это делимое. «Атом поделить» – туда же.
Делитель – это ресурсы. Деньги. Время. Положение в обществе. Толщина записной книжки. Все, чем ты располагаешь для решения задачи.
А частное – это кураж. Причем кураж – обязательно частное явление. Кураж не может быть государственным. Потому что государство – это люди. И только люди могут куражиться.
Почувствовать кураж – очень легко. Поставьте задачу, и решите ее имеющимися средствами. Чем сложнее задача и меньше средства – тем больше кураж.
Мы занимаемся только тем, что анриал.
Анриал – это когда ты не знаешь ответа на вопрос «Как».
Анриал – это когда студент на экзамене выводит формулу Шредингера, описывающую дуалистическую природу электрона. Все преподаватели физической химии знают, что это невозможно. Они знают, что студент не может вывести формулу. Он может только списать вывод. Они знают, что объяснить вывод – это для студента импоссибл.
Мой папа вывел. Объяснил вывод. Иначе он остался бы без стипендии.
Чем сильнее анриал, тем больше в итоге кураж.
Анриал, но не импоссибл. Цель должна быть достижима. Цель Бабловского достижима. Только мы пока не знаем, как. Но я узнаю. Потому что кураж заразителен.
17 сентября
Даже проклятые так не работают!
18 сентября
Уже восемнадцатое?!?!? Я что, ел последний раз три дня назад?
24 сентября
Занимаемся разработкой атрибутики и прочей сопутствующей лабуды для продажи в ходе турне. Советская символика скоро уже будет сниться. Подчиненные уже шутят, что мы занимаемся советским маркетингом.
Советский маркетинг? Ой, не смешите мой учебник Котлера! В Советском Союзе не было рынка. Маркетинга тоже не было – никто ничего не продавал! Вопрос в очереди «Что дают?» — показатель отсутствия маркетинга. Зачем нужен маркетинг, если и так все разберут?
В СССР был даже специальный орган, который боролся со всеми попытками маркетинга. Профессионально налаживал дисбаланс спроса и предложения. Госплан.
Но бренды-то были! Слова не было, а бренды были. Существование советских брендов признали сами бывшие тлетворщики капиталистического запада. Народ продолжал летать самолетами Аэрофлота.
А если бренды были, то был и маркетинг. Только он не продавал. Нетипичный советский маркетинг.
Возьмем мультики – типичный товар массового пользования. Явно не b2b.
Микки Маус бренд? Бренд. А Чебурашка? Бренд. Почему о Волке и Зайце снято 16 серий, а о Томе и Джерри — на порядок больше? В чем отличие? Кот гоняется за мышью. Все! Разные ситуации, одни и те же тупые приколы. В поступках нет логики. Джерри действует то как сангвиник, то как холерик, то как маразматик. Нет целостной личности.
А Чебурашка – это личность. От фильма к фильму он развивается, его поступки становятся осмысленными и т.д. Вредная старуха Шапокляк – это офигенная личность! Со своими убеждениями и поиском смысла жизни.
Советский маркетинг – это «нетленка» (в терминологии Севы Новгородцева). Антисоветский маркетинг – это «тленка» (купи и выброси). В чем разница между «нетленкой» и «тленкой»? У вас дома есть коллекция дисков группы «Фабрика»? А концертники Юры Шатунова (группа «Ласковый май», любой состав)? Нет. А они стадионы собирают. И под водку на вечеринках хорошо идут.
Будешь ли ты слушать музыку, если ты можешь смотреть клип этой группы без звука? Когда видеоряд самодостаточен – какой смысл слушать песню?
Вот здесь и кроется ключевое отличие. Антисоветский маркетинг – это попытка удовлетворить сиюминутную потребность. Советский маркетинг – это создание личностей.
Личности – основа развития. Кем ты хочешь стать? Космонавтом, как Гагарин. Никто не говорил, что когда он вырастет, он будет директором пепси-кольной фабрики. Потому что пепси-кола не влияла на самосознание людей так, как полет Гагарина. Идентификация шла не по товарам, которые ты потреблял, а по личностям, которыми ты себя окружал. Выбор товаров был никаким. Но выбор личностей был огромен.
Революционеры – это личности. Вся революционная культура – это прославление сильных личностей. «Как закалялась сталь» — это не книга, это – личность. «Ленин умер, но дело его живет!» — это лозунг, ориентированный на личность, а не на дело.
Действия революционеров логично смотрятся с точки зрения нейминга и брендинга. Давид Бронштейн – вам о чем-то говорит это имя? Или фамилия Цедербаум? А вот историкам эти фамилии скажут о многом. С точки зрения конспирации, фамилия Шнипельсон ничем не хуже фамилии Мартов или Троцкий, но с точки зрения брендинга… Задумайтесь, как звучит: «ХХ Съезд КПСС – развенчание бренда Сталина».
Для того чтобы обычная торговая марка стала брендом, антисоветский маркетинг придумал рекламу, PR и Томаса Гэда. Люди были поделены на целевые аудитории – на кластеры. Так антисоветские маркетологи уменьшали себе поле деятельности – работать с кусками толпы всегда легче, чем с набором личностей.
Личность – она может и поспорить, и по морде дать: у нее есть свое мнение. А целевая аудитория – некая гомогенная масса, с минимальным общим знаменателем. Выделил, и долби ее рекламой, пока не опухнет. Или товар не купит.
Что такое клип? Клип – это реклама исполнителя. Всю жизнь архитектура была застывшей музыкой, и вот кто-то придумал клипы. Клип режет сознание на кластеры, которые легче заполнять. Рекламой.
Но появилась новая проблема – целевая аудитория перестает смотреть рекламу. Даже не смотреть, а воспринимать.
Советский маркетинг – это создание личностей. Не важно, что человек делает – важно, какую личность из него сделали. Учебниками по советскому маркетингу была серия книг ЖЗЛ – «Жизнь Замечательных Людей». Эта серия стояла на каждой полке. В Советском Союзе печатали плохую литературу, чтобы народ читал хорошую. Иначе – совсем тоска.
А что сейчас? Личности вымерли, как динозавры, воспевается серость и посредственность. Нет людей, чьи поступки можно было бы обсуждать. Есть только сплетни. За дискуссиями всегда стоят личности и поступки. А за сплетнями – голая задница. Причем, как правило, не стоит, а лежит.
Где это видано, чтобы в Советском Союзе вся страна знала и живо интересовалась кучкой эксгибиционистов, именуемыми «Дом-2». Ведь и с сексом было все в порядке – 150 млн. населения, их же не из Китая завезли!
Все нормально. «Пипл хавает». Богдан Титомир — великая серая личность, сформулировавшая великий серый принцип. Мы живем в мире, которым правят продюсеры и маркетологи… уж лучше диктатура! Там, по крайней мере, все честно. Уж лучше пусть в открытую давят, чем ненавязчиво манипулируют. Второе страшнее – его не замечаешь…
26 сентября
Антисоветский маркетинг отрицает личность и апеллирует к серости, которой по определению больше. При этом он пользуется Личностями, эксплуатируя желание серости стать Личностью с минимальными усилиями. «Манька, купи розовый телефон и станешь МОТОМАРИЕЙ!».
Что может противопоставить советский маркетинг? Есть два варианта. Первый – тотальная пропаганда. Желательно на «Первом». Желательно в прайм-тайм. Удовольствие, доступное только государству.
Вариант второй – эксплуатация Личности. Это не значит, что нужно срочно выстраивать MLM-систему. Обойдемся как-нибудь без сетевиков. Каждая Личность неосознанно хочет стать брендом. Только называется этот процесс по-разному. В академической среде – признание научных достижений: идеи аспиранта и академика, пусть они говорят одно и то же, воспринимаются по-разному.
Советский маркетинг превращает Личность в борца за свою идею. Антисоветский маркетинг берет хорошую идею, и концентрирует ее на товаре. В терминах антисоветского маркетинга, товар с идей – это бренд. Какая идея может быть у чая? Вы себе представляете жизнь, посвященную такой идее?
Советский маркетинг концентрирует идею на задаче, которую решает Личность. Продукт, согласно советскому маркетингу, помогает решать задачи. Все. Товар – всего лишь коммуникационный канал. Идеи завязаны на задачу, которую решает Личность. Вот тут и возникает парадокс – товара нет, а бренд есть.
Если задача тривиальная, то бренд не сможет существовать. Если нетривиальную задачу решает не Личность – задача так и останется нерешенной, и бренд умрет. Личность решает задачи класса анриал. И бренды получаются очень сильные.
Личность живет решением задач. Так Личность самореализуется – удовлетворяет потребность «brandme!». При решении таких задач Личность контактирует со множеством людей. Обсуждает любые способы решения своей задачи. Даже с людьми, не занятыми непосредственно на проекте – главное, чтобы этот человек мыслил. С Личности берут пример не только пионеры. В итоге образуется сообщество людей, завязанных на личность и решаемую задачу. При этом система многократно отражает породившую ее личность.
Особенность этого сообщества в том, что внутри него идет постоянная коммуникация. В отличие от целевых аудиторий. Очень немного представителей целевых аудиторий общаются друг с друг с другом. Особенно на профессиональные темы. Они ж конкуренты! Антисоветские маркетологи умудряются собирать в целевые аудитории конкурентов по жизни. Почему ваш товар не будут обсуждать? А зачем давать кому-то конкурентное преимущество?
В сообществе, созданном личностью, коммуникации направлены на повышение эффективности его отдельных членов. При повышении личной эффективности членов сообщества повышается эффективность всей группы, а следовательно – скорость решения сложной задачи. Именно поэтому товары и бренды, повышающие личную эффективность, будут обсуждать и рекомендовать друг другу члены сообщества.
Товары и бренды, повышающие личную эффективность – это не таблетки. И даже не зарядка по утрам. Вспомним: чем человек сильнее, как Личность, тем эффективнее он решает поставленную задачу. Бренд должен помогать человеку становиться Личностью. Помогать самореализовываться. Удовлетворять потребность «brandme!». А потребляемые товары или услуги – не более чем форма такой помощи.
Следовательно, для создания бренда нужно рассказывать истории. Истории о том, как бренд помогает становиться Личностью. При этом истории должны рассказывать сами Личности. Никому не интересно, чьим лицом стали Дэвид Бекхэм или Мария Шарапова, когда выиграли. Всем интересно, что нужно делать, чтобы «…получить свои пятнадцать минут легенд».
На антисоветских маркетологах лежит сложная задача – перейти от мышления «рекламировать на целевую аудиторию» к мышлению «создавать истории для личностей».
В идеале бренд должен выращивать Сообщество. Не клуб потребителей подгузников, а именно Сообщество. Сообщество выстраивается само вокруг нескольких Личностей, разделяющих ценности бренда, и на своем опыте убедившихся, что товары помогают им в решении задач класса анриал.
Проблема в том, что бренд, отделенный от товара, испытывает недостаток в каналах коммуникаций. Проблема не решается созданием зонтичных брендов. Решить ее можно только средствами неконкурентного кобрендинга. Это комбинация бренда идеи и брендов производителей. Подчеркиваю: брендов производителей, а не брендов товаров, которые они производят. Самое близкое понятие – образ жизни. Образ жизни, выстроенный вокруг Личности, решающей сложные задачи.
В итоге товары, конкурирующие за кошелек в одной ценовой категории, перестанут конкурировать. У производителей появятся дополнительные каналы, чтобы продавать товар под брендом образа жизни. При этом бренд производителя будет играть роль только в сфере b2b.
В итоге вынуждены будут трансформироваться магазины – от классических форматов торговли, различающихся по цене и ассортименту, магазины перейдут к форматам торговли, отличающимся по образу жизни, который они продают. Близко к такому формату работают магазины «Le Future» — они продают большим и серьезным дядькам щенячью радость от получения в подарок необычной игрушки.
Да сделайте вы пиво для системных администраторов, в конце-то концов! И при покупке сервера давайте DVD с порнокартинками – все равно народ насобирает. У вас что, нет друзей-сисадминов, работающих в типичной не-IT-компании?
Самое интересное – на интуитивном уровне эту цепочку рассуждений поняли в КГБ. Только они не выстраивали, а боролись – т.е. начали с конца. «Сегодня он играет джаз, а завтра – Родину продаст!».
Образ жизни оказался тесно связан с ключевыми ценностями. У кого нет ценностей, у того и образ жизни антисоветский.
30 сентября
Наконец-то выдался свободный день. И тот придется потратить на сборы. По моим подсчетам, в России нас не будет месяцев восемь. Разумеется, вместо того, чтобы потратить драгоценные часы на закупку необходимой в условиях «полевого выхода» амуниции, я отправился пить пиво в свой любимый паб. После третьей кружки «Гиннеса» опять потянуло на размышления.
Выбор сотового оператора и пива – это вопросы религии.
Мы уже не выбираем. Выбор предполагает осмысленность действий. Избыток предложения убивает осмысленность.
Мы уже не можем оценить качество товара. Вообще. Даже субъективно. Субъективизм – когда ты принимаешь решение, но некоторых фактов не хватает. Ты подумал и предположил. Результат – субъективно принятое решение.
Сегодня фактов, моделей, тарифов, консультантов слишком много. Сегодня Буриданова осла разорвало бы на атомы.
Рационального выбора не существует.
Полагаться на случайность выбора бессмысленно. Случайность тоже придется выбрать. Случайность – это закономерность, о которой ты не знал. И которую придумал. Не ты. Закономерность, в которую ты вляпался – случайность. Случайность, в которую вляпался не ты – закономерность.
Не существует даже иррационального выбора. Есть только сюрреалистический выбор. Не осознанный, слабо мотивированный. Но в этом есть свои закономерности.
Старик Маслоу был прав. Людьми движут потребности. Потребность удовлетворять свои потребности. Но люди ленивые!
Буриданов осел не может решить. Люди могут, но им лень! Они не хотят решать.
Есть только одна реальная потребность. Она одинакова почти у всех. Человек, сумевший удовлетворить ее, будет подавать Биллу Гейтсу милостыню. Главная потребность звучит так.
Создайте мне потребности. Мне лень говорить вам о них. Я буду врать вам на фокус-группах. Я буду говорить, что ваш товар удался, лишь бы отделаться от этих навязчивых девушек. Мне нравятся девушки. Но ваши задают вопросы. Много. Слишком много. Причем дурацких. Мне лень на них отвечать.
Лень. Ключевое слово. На каждой ступеньке пирамиды Маслоу стоит Лень. Мне лень пробовать новые продукты. Мне лень следить за собой. Я пойду в Макдональдс. Мне сказали, что это я люблю. Они любят его за меня. Маркетологи Макдональдса. Председатель совета директоров. Этот председатель земного шара. Он что, сам по себе любит Макдональдс? Нет! Сам по себе он любит фуа-гра. А Макдональдс он любит за меня. Он его и есть за меня будет. Только чтоб я деньги платил.
Пробежали по ступенькам – лень, лень, лень. А на вершине красуется «самореализация» и… лень. Люди готовы платить деньги, чтобы кто-то самореализовал их.
Самый честный диалог в магазине:
— Самореализуйте меня…
— Как?
— Ну… баксов на 200-300…
Вы слышите и видите эту сцену каждый день. Слова могут быть разные. Действия могут быть разные. Люди могут быть разные. Смысл один.
Я дам вам денег, только самореализуйте меня.
Бренды дают такую возможность. Потребительские свойств товара не имеют значения. Товар – всего лишь рекламное место для бренда. Тебе продают кусочек бренда. В идеале – вообще нужно отказаться от предоставления услуги или товара. Отдал деньги корпорации – получил лычку «Самореализованец второй степени». И свободен! Но пока приходится покупать и товар тоже. В нагрузку к бренду.
Мария Шарапова лупила мячи десять лет. Любая Манька теперь может купить розовый телефон и приобщиться к мировой славе.
Энди Уорхолл говорил про будущее. Он был не прав. Каждый, кто мог купить картину Уорхолла, получал 15 минут мировой славы. Разумеется, это была мировая слава Уорхолла.
Ты покупаешь кусочек чьей-то сбывшейся мечты. Это простой путь самореализации. Самый простой.
Ужас в том, что за тебя придумывают мечту. За тебя достигают мечту. Твою мечту.
Люди сами отдают ее. Так проще. Так легче жить. Посмотрите на тех, кто самореализовался. На тех, кто костьми лег для воплощения своей мечты. Они вне общества. Они в тусовке богатых и знаменитых, но они – вне общества. Общество состоит из тех, кто ленив. Из тех, кто покупает бренды. Из тех, кому лень самореализовываться.
Самое страшное наказание за нелояльность бренду – десоциализация. Бренды – это твои координаты в социуме. Даже движение «NO BRAND» — это тоже бренд.
Есть только один способ уйти от этого. Самореализовавшиеся люди сами становятся брендами. В науке. В бизнесе. В шоу-бизнесе. Как только ты становишься брендом – ты выпадаешь из социума. Внутри социума положение определяется брендами. А ты сам – бренд. Социум тебя выталкивает.
Самореализация – тяжелейший труд. Брось это дело! Доверься профессионалам! Купи билет на блокбастер и будь крутым! Купи «Nike» и ты уже почти Джордан. «Just do it!»
Люди готовы работать в поте лица, чтобы облегчить себе самореализацию. Потому что это дает возможность о ней не думать. Не грузить себя. Люди не любят когда их грузят. Только они забывают, что легкость бытия тоже может быть невыносимой.
Но пока они готовы платить за то, что повысит их профессиональный статус или подарит вдохновение. Такие бренды собирают наиболее выгодных потребителей.
Люди готовы работать и отдать все, чтобы не делать ничего. Парадокс, на котором построена индустрия рекламы и сферы продаж.
Особо внимательные заметили, что в рамках данной формулы потребитель все равно остается ни с чем. Экономическая выгода оказывается вынесенной за скобки. Это не то, о чем должен думать потребитель. Он вообще не должен думать.
Что такое первые советские пятилетки? Обмен вдохновения и самозабвенного труда на возможность самореализоваться. «Я построил Магнитогорск» — звучит! Причем строили его голыми руками из того, что было под ногами. Сколько менеджеров не спасует перед таким «challenge»?
16 октября
На Октоберфесте встретил Олега Тинькова. До-овольный! Хотя и трезвый. Разговорились. Потрясающий мужик. Он уговорил устроителей Октоберфеста подменить пиво! Вся Европа была уверена, что пьет родное, баварское, а на самом деле выхлебала семь миллионов литров пива «Tinkoff». Потирает руки в предвкушении скандала. Говорит, что это его лучшая рекламная акция после голой задницы, рекламирующей пельмени.
27 октября
Бренды умирают не от старости. Бренды умирают от маразма. Что объединяет умершие бренды? А по большому счету, и не родившиеся? Нереальность историй, которые они нам пытаются рассказывать. Это не о нас. Это не для нас. Это нам не интересно. Вы умрете, если не будете рассказывать нам истории. Или делать так, чтобы мы их рассказывали друг другу.
Это правило работает на любом потребительском рынке. Сальвадор Дали художник? Он торговец историями. В первую очередь, историей о своей гениальности. Не важно, что он делал. Важно как он это делал. Каждую секунду он продавал себя. Сколько фамилий сюрреалистов вы назовете? Вот-вот. А он сказал для позиционирования всего лишь одну фразу: «Главное мое отличие от сюрреалистов в том, что сюрреалист – это я».
Бренд – это не набор технологий. Это не товар и не реклама! Это легенды. Образы. Архетипы. Команданте Че? Бренд. Его именем до сих пор называют все: от водки до ночных клубов.
Сколько было Людовиков во Франции? Штук двадцать! А помним Людовика четырнадцатого — Короля-солнце, сказавшего: «Государство – это я!». Фрейду и не снилась такая сублимация.
Бренд живет, пока его истории интересно слушать.
Производители молока, они что, деревню продают? Почему на каждом пакете корова? Спроси любого байкера, что он пил в детстве. Он тебе скажет – молоко. Почему? Потому, что молоко – это промежуточный этап от титьки к пиву.
Производители молока продают детство! Детство! А не домик в деревне! И «Простоквашино» — это машина по продаже детства. Советского. Осталось только поделить поле молочного детства. Детство с трансформерами. Детство для космонавтов. Детство для мушкетеров. Кто кем в детстве хотел стать? Но бывают и проколы: Никто, даже Чубайс, не хотел стать рыжим Апом.
Кто создает бренды? Бренд-менеджер? Он-таки да сочиняет эти истории? Да он просто бюджет осваивает! По шаблону. В прошлом году было? Сделаем в этом!
Самая главная потребность не удовлетворена! Народ со времен Римской империи хочет зрелищ! Твое уникальное торговое предложение – это всего лишь истории. Качество не попробуешь на зубок. И если сказать, что в банке кровь мертвых помидоров, никто не будет пить томатный сок. Можете не сомневаться.
2 ноября
Голландия такая маленькая, что самолеты вынуждены летать косяками. Поселились в гостинице. Осваиваемся.
11 декабря
Ездил на «Рынок чудес» в Венеции. Такой же блошиный рынок, только блохи попородистее будут. Огромный рынок лишних долларов. Вот она, волшебная сила пиара — пара наших «потомков белой эмиграции» распродала за два дня четыре трейлера всякого хлама. Только табличку на пяти языках поставили: «Запчасти от коммунизма». На ура шли копии маузера им. Дзержинского и ледоруба им. Троцкого.
Приснился айсберг. К чему бы это?
В Венеции невозможно жить. Ты обречен быть гостем. Ты можешь быть богатым, уважаемым, любимым и желанным, но всего лишь гостем. Венеция слишком красива. За красоту ты готов простить ей все – мерзкую дождливую погоду, гондольеров, полностью оправдывающих свое русское созвучие, жадноватых до твоих денег и твоей дамы. Но… Кофе? Утром? В Постель? Любимый, я же Ве-не-ци-я!
Венеция похожа на стареющую, но все еще красивую проститутку, на которую у тебя до сих пор нет денег. Она заставляет восхищаться собой, делать себе комплименты, а потом пойти и развлечься каким-нибудь другим способом.
15 декабря
Официальное открытие экспозиции в «LeninLand». Студия Диснея долго кочевряжилась: «дарим в арэнду, не дадим в арэнду». Бабловскому это надоело, и он скупил контрольный пакет акций студии: у Константина Ферста 6 декабря намечался день рождения – чем не подарок?
Опра Уинфри нашла внучку невинно убиенной цесаревны Анастасии. Рейтинг зашкаливал. На ее шоу плакала вся Америка. Даже Бабловский всплакнул, глядя на царственные черты темнокожего лица.
14 января
Отмечали старый новый год. Все Карибское побережье в шоке – к ним приплыл живой айсберг. Экспозиция дополнилась стендами о подвигах папанинцев, а Слава Полунин показал «Lenin’s Snow Show» о зимнем субботнике на Красной площади. Серьезные ребята из Колумбии были потрясены – они долго переспрашивали, выясняя, действительно ли snow лежит на streets. От слова sugrob – пришли в восторг, особенно, когда переводчик объяснил им, что sugrob – it’s a fucking big pile of snow outdoor. Долго приглашали к себе. Наша служба безопасности тактично и долго отказывалась.
7 февраля
Середина дня. Обсуждали с Ферстом идею реалити-шоу «Последний герой ВКП(б)». Ферст сказал, что арендовать для съемок Кремль – не проблема. Проблема – выгнать игроков из властных кабинетов после съемок. Да, – согласился я с ним, – в России во власть рвались ради процесса, а не ради результата.
Поделиться "Ленин, Че и Микки-Маус"